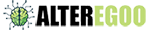«В материнской страсти есть скрытая ненависть»

Psychologies: Почему вас настолько увлекает тема материнства?
Юлия Кристева: Потому что евангельская заповедь «возлюби ближнего своего, будто самого себя» имеет, на мой взор, прямое касательство к тайне материнской страсти, к той загадке, которую Дональд Винникотт величал «достаточно важнецкой матерью». Довольно важна та мать, какая позволяет ребенку создать переходное пространство, в каком тот может мыслить сам. С точки зрения передачи культуры в этом состоит бабий гений.
Что вы величаете «материнской страстью»?
Это очень большое, бешеное склонность, какое не поддается контролю и граничит со страданием и безумием. Психоаналитики бессчетно говорят о функции родителя, однако материнство — не функция, а собственно страсть. Она преобразует эмоции, какие можно объяснить биологически(привязанность и вдруг агрессивность к плоду, а затем к младенцу и ребенку), в осмысленную любовь, под коей я понимаю идеализацию ребятенка, преданность ему, проект длительной всеобщей жизни с ним.
У подобный любви есть возвратная палестины — скрытая ненависть. Это драматическое соединение биологии и резона начинается еще в тот момент, когда баба ждет ребятенка. Беременность вдруг усугубляет и ставит под сомнение ее нарциссическую любовь к себе. Она чувствует, что теряет себя, свою идентичность, поскольку в итоге вторжения возлюбленного, родителя ребятенка, она двоится: в ее чреве теперь исчезает безвестный третий.
Даже не опроставшись ребятенка, мы можем прожить этот опыт сквозь усыновление или благодаря суррогатному материнству
Настолько что начальный этап материнской страсти навещен внутрь себя. Затем возникает страсть матери к новому самостоятельному существу, каким будет детище, если перестанет быть удвоением матери, если мать позволит ему стать автономным. Мать и детище будут в состоянии борьбы и путем двустороннего изгнания пробуют обрести независимость.
Материнство можно считать прообразом освоения взаимоотношений с иным людом. Мы владеем девало с проективной идентификацией: мать проецирует свою «плохую» часть на ребятенка и вынуждает его вести себя в соответствии с этим приписанным ему свойством. Это позволяет ей владеть им и его контролировать. В то же времена склонность матери к ребенку не реализуется: крайне жидко матери доходят до сексуальных домогательств к собственным ребятенкам. Запрет на сексуальную реализацию стремления позволяет материнским аффектам преобразоваться в нежность, заботу и благожелательность.
В чем ценность такового эксперимента?
Рискуя шокировать многих, скажу, что без этого эксперимента, без этой двуликой материнской страсти(в коей есть и нарциссическая замкнутость на себе, и взаимоотношения с иным)баба вряд ли может по-настоящему установить связь с дядею и вообще с иными людами. Не вкусив ее, она не может раскрыться в любви, неспособна, не побоюсь этого слова, быть «оптимальной любовницей». Она не может любить иного настолько, чтобы другой не оказывался попросту растворен в этой всепроникающей эмоции, какая есть привязанность, конкуренция или абсолютное безразличие. Чтобы преодолеть безразличие, привязанность, конкуренция, присутствующие в наших отношениях с сексуальными партнерами, опыт претворения страсти в нежность недюжинно величав.
Верно, вы опираетесь и на свое переживание материнства. А будто быть тем, у кого нет ребятенков?
Когда я говорю о материнской страсти, я не имею в виду всего биологических мамаш. Даже не опроставшись ребятенка, мы можем прожить этот опыт сквозь усыновление или благодаря суррогатному материнству. Подобный опыт возникает и в отношениях заботы, — у учителей, воспитателей, в семейных отношениях и даже в коллективной жизни, к примеру в работе волонтеров. Однако доколе мы еще не изобрели искусственную матку, под материнской страстью большинство понимает страсть родительницы. Эта страсть остается первообразом любовных взаимоотношений, какие затем мать сможет воспроизвести в отношениях с партнером.
Значит, материнская любовь идеальна?
Нет, ни в коем случае. Эти неоднозначные взаимоотношения не имеют ничего всеобщего с идиллией: они век нестабильны, век рискуют оборваться в экзальтированность, в депрессию или агрессию, могут обвернуться трагедией, однако они же дают нам шанс. Собственно из-за того, что страсть настолько интенсивна и настолько травматична для того, кто ее испытывает, она может позволить матери проработать возможную связь уже не всего с ребятенком, однако и с иным объектом ощущений.
Настолько возникает шанс трансформировать, «переплавить» ту разрушительную сторону страсти, какая присутствует во всех человеческих связях и до коей мы дотрагиваемся, будто до разинутой раны, в эксперименте материнства: «я его люблю, и я его ненавижу, однако мы будем жить вместе». Бабская сексуальность укрывается, запрятывается в материнстве, чтобы там прожить свои перверсии и безумства.

Однако будто же тогда материнская страсть может стать опорой для ребятенка?
Всего перебежав в бесстрастие, в отстраненность. Когда страсть окончена, она становится житейской поддержкой. Нечто в самой структуре материнского эксперимента благоприятствует этому расставанию со страстью. Я думаю, что тут важны три вещи — роль родителя, способ переживания времени и усвоение языка. Про роль родителя уже бессчетно взговорено и написано. Однако мы, по-моему, недостаточно болтаем о том, что освоение языка ребятенком — это еще и новоиспеченное освоение языка его матерью.
Болтая на языке своего ребятенка, мать излечивает то, что называют неконгруэнтностью(несовпадением, рассогласованием)между аффектами и резоном. Мать начинает со старшего языка, какой стал для нее излишне метафизическим, и переходит к инфантильному языку, какой физиологичен, плотски ощутим. Благодаря подобный регрессии она воссоединяет свое склонность и свою способность к абстрагированию, аффекты и резон. Однако у передачи языка есть и иная палестины. Она связана со способностью матери к сублимации, то есть к преобразованию сексуальной энергии в другую форму. Я бы взговорила, что сублимация материнской страсти делает ребятенка способным к мысли и творчеству.
А будто матери воспринимают времена?
В западной философии под ходом времени всегдашне понимают приближение к смерти. Мы жительствуем во времени, времена идет, куда оно идет?К смерти. Однако времена матери — это не приближение к смерти, это времена, продолжающееся благодаря возобновлению. Разумеется, страх смерти присутствует и в материнском эксперименте. Верно, нет женщины, какая, вряд затяжелев, не теряла бы голову при мысли о том, что что-то может случиться с плодом, а впоследствии и с ее ребятенком. Однако я думаю, что в последнем итоге смерть бывает поглощена иным разрывом во времени — началом.
Безусловно, оба родителя осознают, что зачатие и рождение — это основные акты инициации, что с их ребятенком в мир придет нечто новоиспеченное. Однако мать чувствует это больше, поскольку в родах задействовано ее собственное тело. Для нее это новоиспеченное взялось — не попросту откладывание смерти, это еще и длиннейшая воля. Логика свободы состоит в способности начинать, зачинать, а не в нарушении границ и заказов. Истинная воля, учит нас нынешняя философия от Канта до Хайдеггера, — не бунт, а инициирование, почин будто поступок. Первообраз подобный свободы — акт рождения. В этом резоне матери владеют ключом к воле.
Вы говорите, что страсть матери должна перебежать в отстраненность. А будто же всемогущая материнская любовь?
Верно, я нарываюсь на буза, однако я бы взговорила настолько: довольно важная мать вообще не любит никого в особенности. Ее страсть улетучилась, превратившись в бесстрастие, задушевное к покою и мудрости. Таковая мать не культивирует излишне усердно раздельные связи, потому что она разинута всем связям. У писательницы Колетт есть персонаж по имени Сидо1. Вместо того чтобы пойти на свадьбу собственной дочери, она предпочла остаться дома и увидеть, будто раскроется бутон кактуса.
Для Колетт, какая абсолютно заворожена этой историей, важная мать — та, какая не любит никого и ничего, однако любит смотреть, будто распускается цветок. Я понимаю эту сцену настолько: рамки единой страсти для Сидо излишне узки, а идеальная страсть — это природное обновление, возобновление. Она вовсе не кинула дочь, не опамятовавшись на ее свадьбу. Вместо этого она передала ей свою страсть смотреть на мир и говорить об этом мире, страсть превращать свои страсти в построения рассудка, делать их частью психической жизни… Способность разделить свою страсть посредством слов может быть более освобождающим и более борющимся материнским наличием, чем телесное «наличие» матери-гувернантки возле с дочерью, какая бессмертно будет в ней бедовать.
Важная мать умеет самоустраниться, чтобы освободить ребенку пространство для блаженства мыслить
Однако многим из нас будто, что детвора век бедствуют в нас, что мы должны быть век возле. Вы с этим не согласны?
Это настолько, однако всего на начальный взор. На самом деле сквозь постепенное освобождение от страстей, сквозь свою способность к сублимации мать позволяет ребенку усвоить не образ матери, а образ отсутствия матери. Более того, мать должна сотрудничать с ребятенком, чтобы достичь этого отсутствия. При обстоятельстве, что она остается довольно доступной для ребятенка, чтобы тот смог присвоить себе материнское мышление, опереться на него, образовывая собственные зрелища.
Важная мать умеет самоустраниться, чтобы освободить ребенку пространство для блаженства мыслить. В представлениях о материнской жертвенности, какие дробно имеют благочестивые(христианские)истоки, матери отводится бездейственная роль, а я предлагаю матери деятельно поощрять ребятенка к тому, чтобы сместить ее с престола.
Будто вы видаете роль матери в нынешнем обществе, в нашей культуре?
Материнство — вряд ли не единый институт, какой все еще свят. В то же времена, когда речь идет о женщинах и матерях, наша светская, гуманистическая мысль направляет все свое внимание на социальное(сексуальную свободу и равенство)и биологическое. И в то же времена мы — первая цивилизация, в коей отсутствует дискуссия о резоне материнства. Это мой новейший лозунг, какой я не устаю повторять: «Нам не хватает тары-бары-раста-бара о материнском призвании».
Коллективное взгляд не видит материнской сексуальности, воспринимает материнство будто полезную функцию. Собственно поэтому, я думаю, феминистское движение в свое времена восставало против материнства: это был протест против зрелища о материнстве будто о норме. Сейчас, визави, мы видаем обилие молодых баб, рвущихся к материнству(причем это дотрагивается и гомосексуальных пар), словно оно — неизменное оружие от депрессии. Однако и эта тенденция влечется изъять из материнства сексуальную сторону.
Я же мечтаю о том, чтобы психоанализ реабилитировал другой способ проживания материнской сексуальности. Женщина-мать выдается от женщины-любовницы, однако она не отнята сексуальности. Материнская страсть порождает внутренние конфликты(однако тут мы, психоаналитики, можем помочь), однако и обеспечивает передачу культуры от поколения к поколению. Я думаю, что если бы нам удалось объяснить суть материнского призвания, это было бы большущим вкладом в новоиспеченные основы гуманизма.

Об эксперте
Юлия Кристева — философ, психоаналитик, лингвист, культуролог. Стояла у истоков постструктурализма. Профессор университета Paris VII, автор более 40 книжек. Ее сайт: Kristeva.fr
Поделитесь с нами своим воззрением